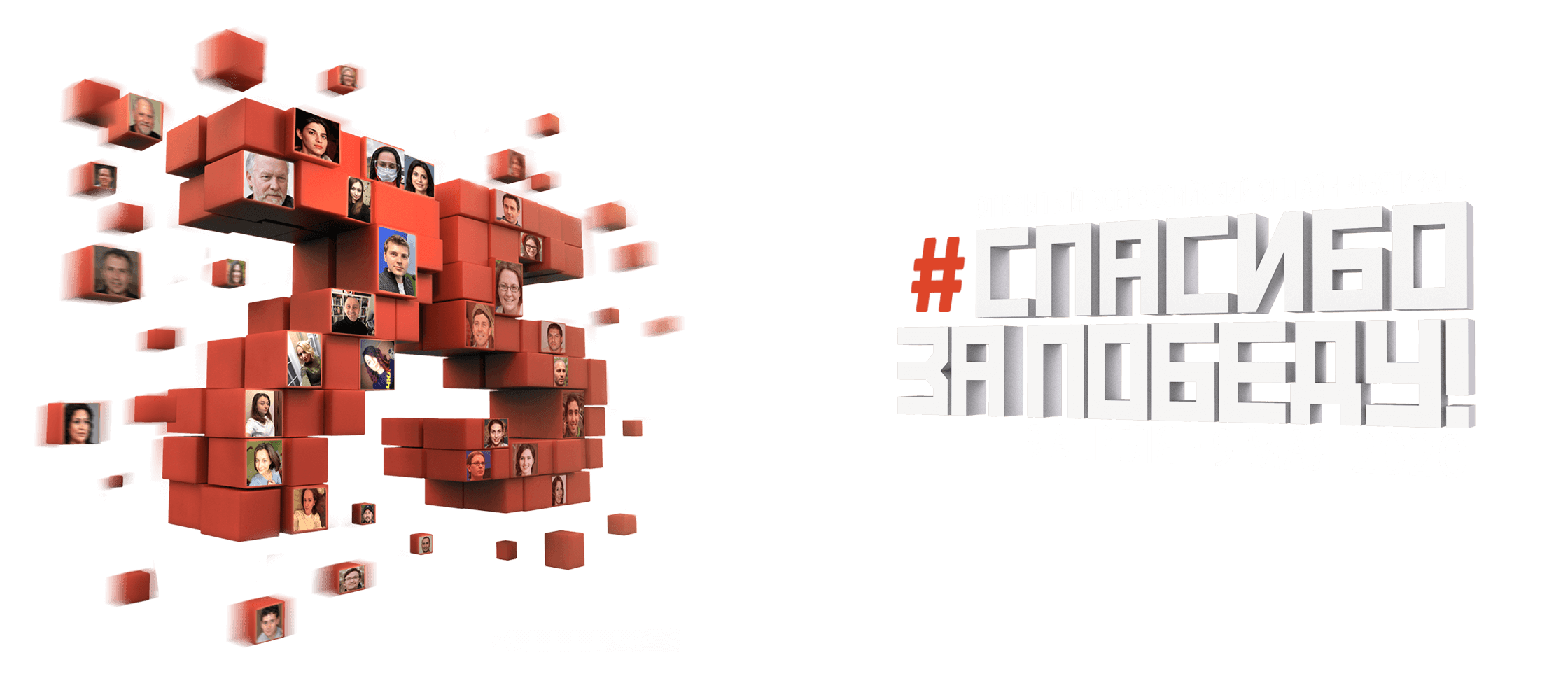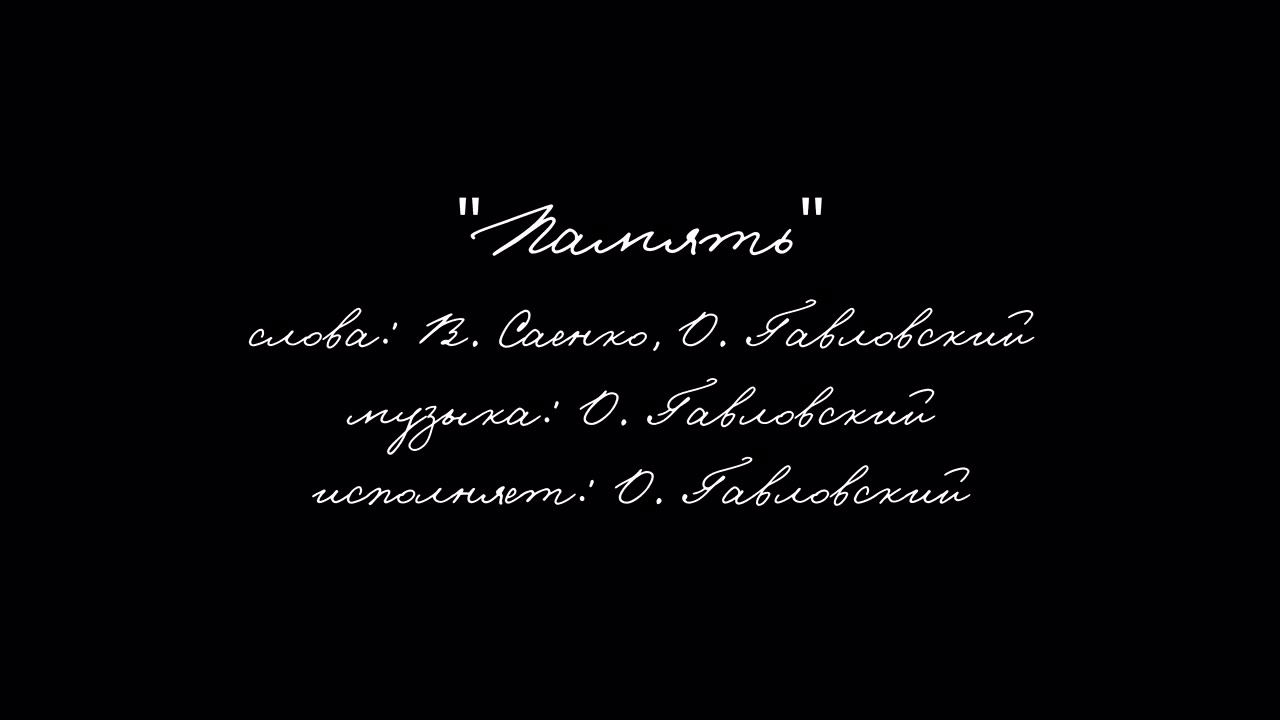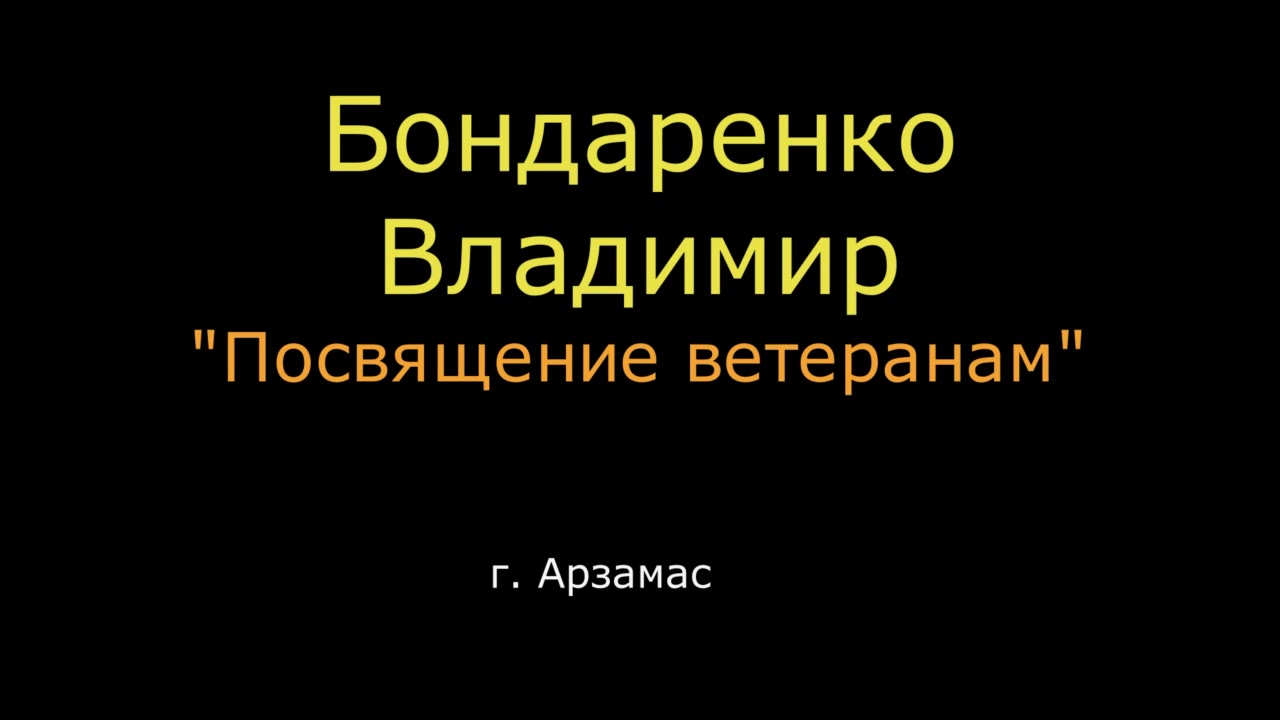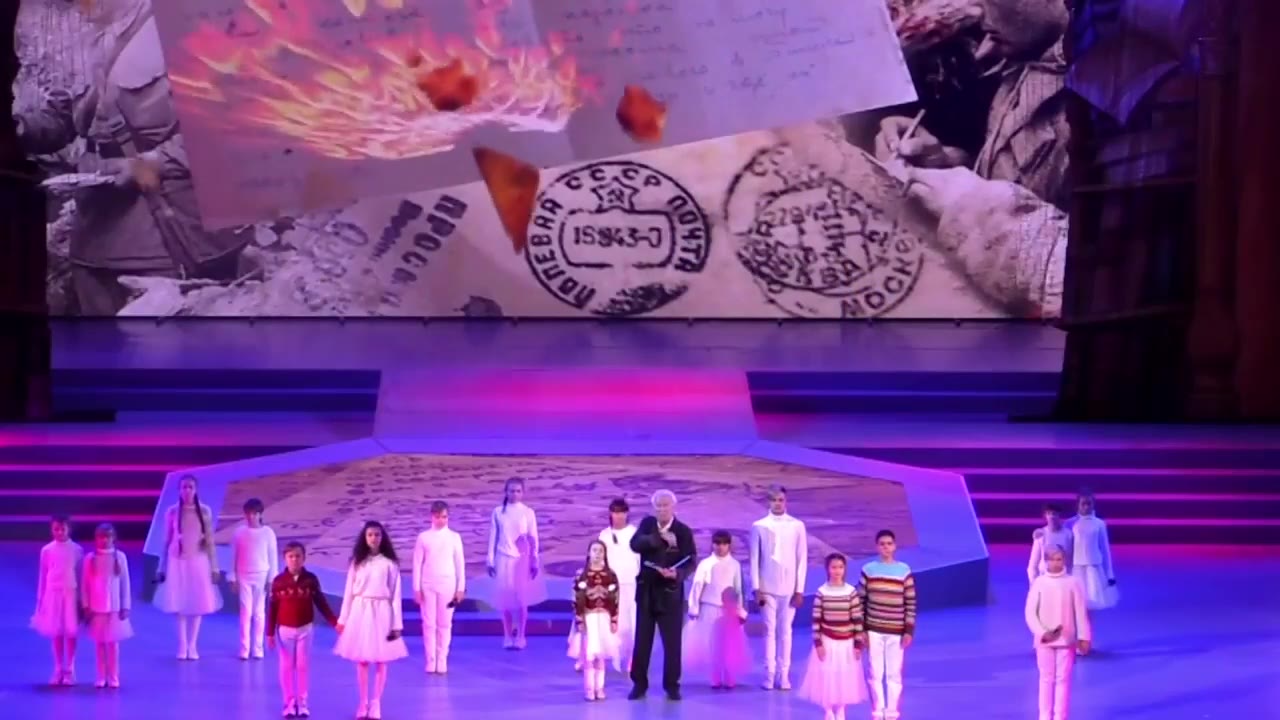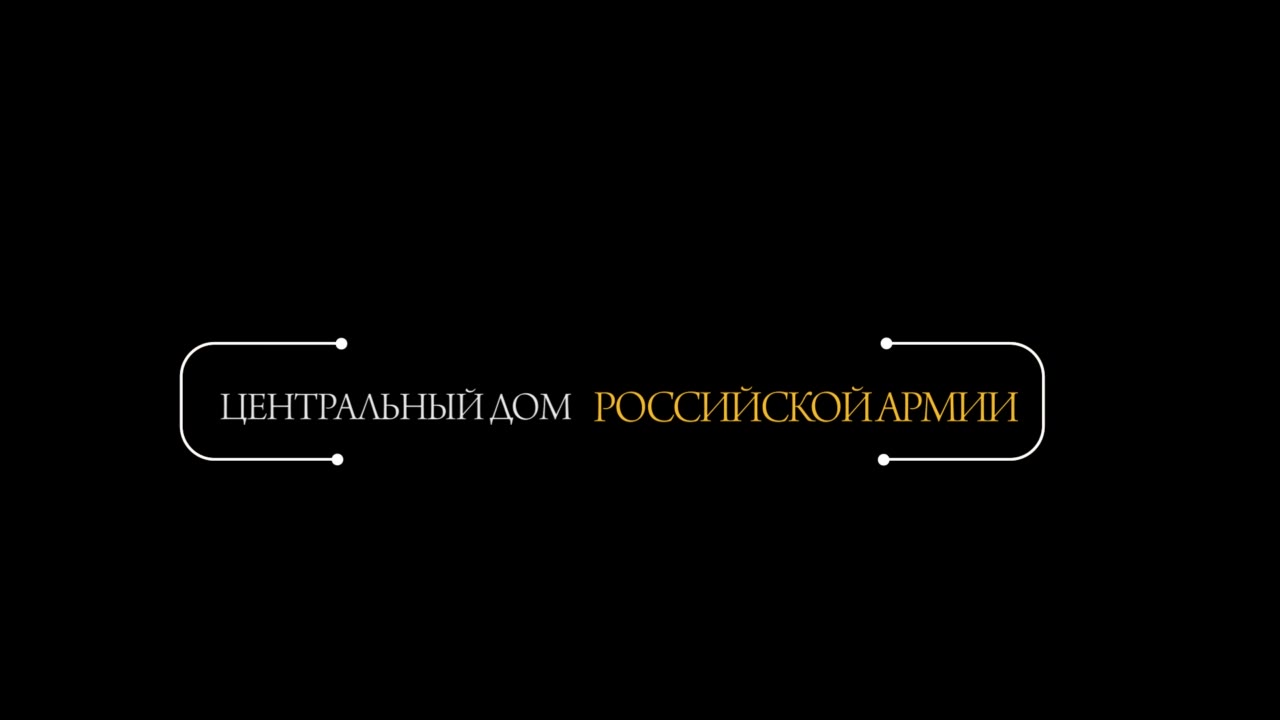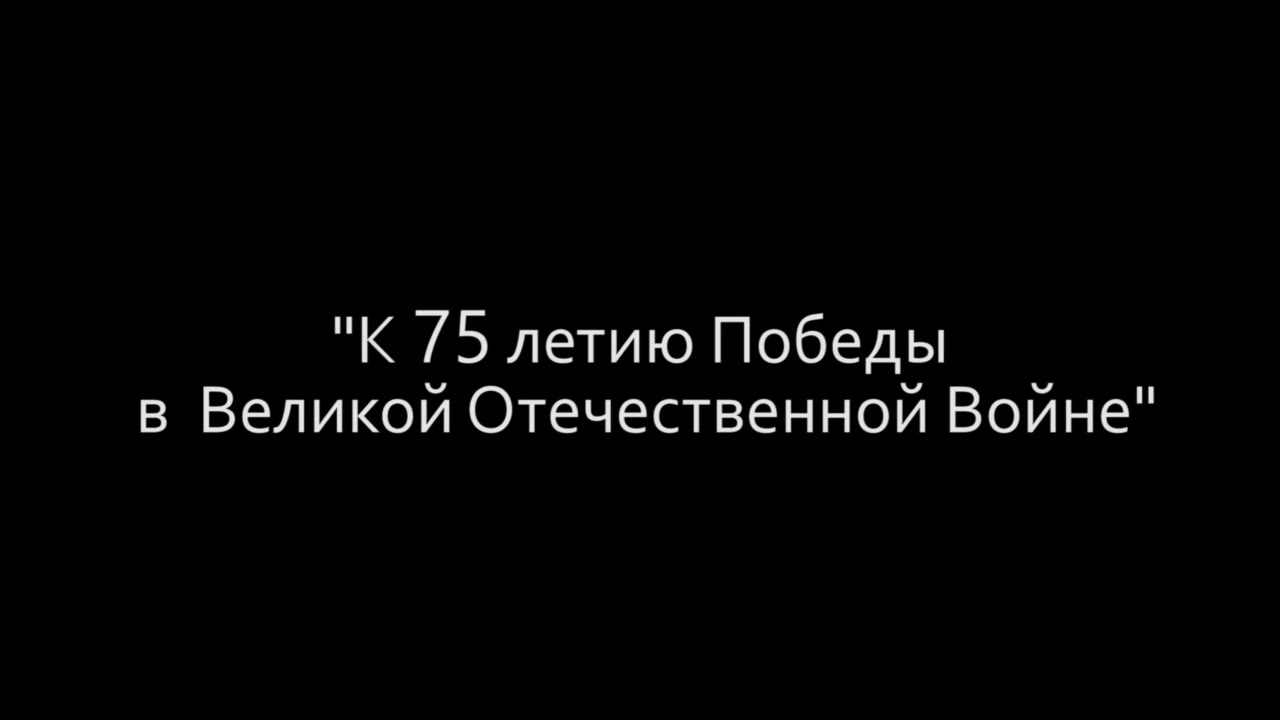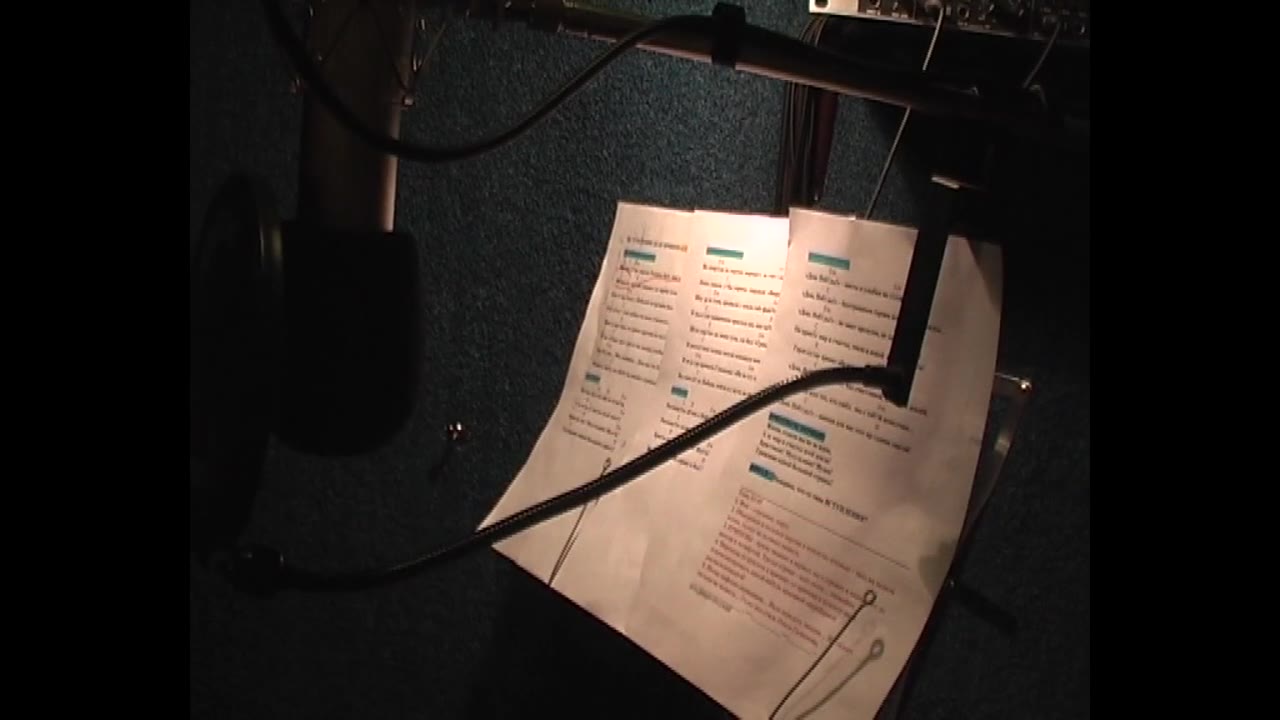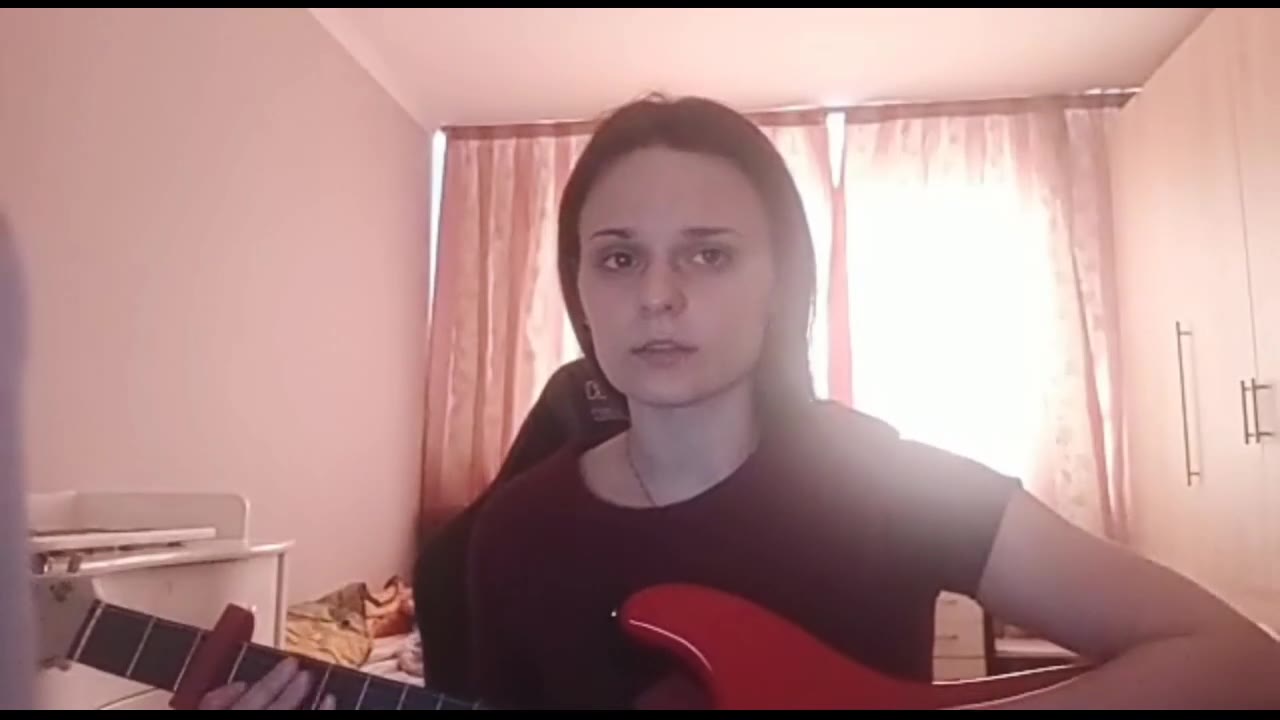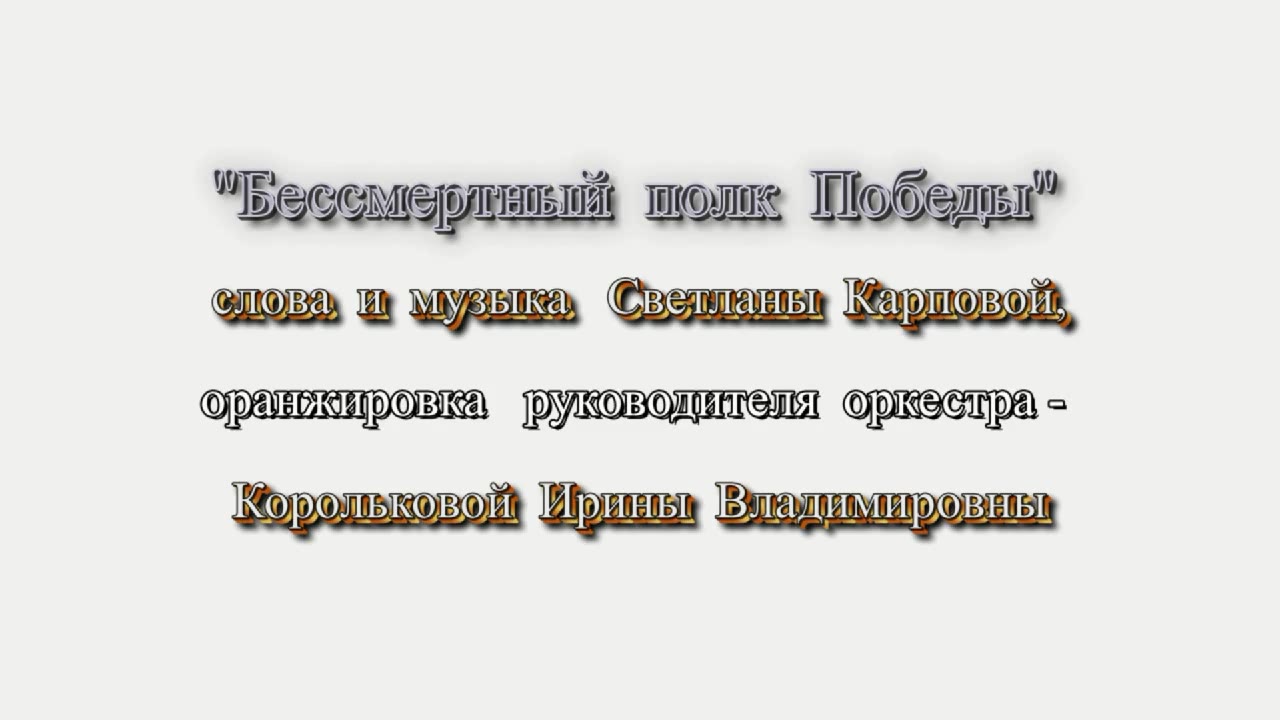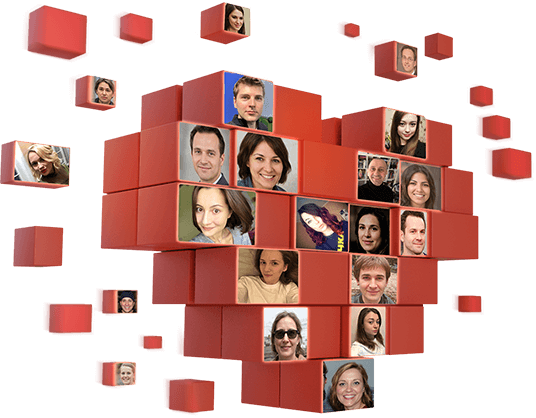9 мая в 19:00 мск 2020 г. завершилось народное голосование творческого конкурса, и по его результатам были определены победители в номинациях «Авторская песня», «Кавер песня», «Авторское стихотворение», «Стихотворение другого автора», «Авторская проза» и «Проза другого автора» в возрастных категориях от 4 до 14 лет, от 15 до 24 лет, от 25 до 44 лет и старше 45 лет.